Опять она проснулась от собственного крика. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Не зажигая света, нащупала таблетки на столике. Убедившись, что их еще пол-упаковки, физически ощутила некоторое облегчение. Но только на миг.
Опять она проснулась от собственного крика. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. Не зажигая света, нащупала таблетки на столике. Убедившись, что их еще пол-упаковки, физически ощутила некоторое облегчение. Но только на миг.

Картины страшного, десятилети- ями преследовавшего ее сна отчетливо стояли перед глазами: длинные трубы со столбами зловещего пламени и черного едкого дыма, груды обуви около крематория.
Анна Афанасьевна сжалась в комок. Ей хотелось спрятаться, забыться. Господи, целая жизнь прошла, как война закончилась, дети повырастали, внуки свои семьи завели, правнуки появились, другие заботы, другие тревоги, а эти мучительные сны так ее и не отпускают.
Замуж вышла аккурат перед войной, едва восемнадцать сравнялось. И пока ее сверстницы за речкой хороводы водили, Анна уже о семье заботилась.
Страшную весть о войне в поле услышала, где вместе с другими колхозницами свекольные грядки пропалывала. Женщины, что постарше, сразу в голос запричитали, а Анна по молодости как-то и не сразу сообразила, насколько серьезно это слово — «война».
Осенью проводила мужа на фронт. А к зиме, раненный, он вернулся домой. Думал, заживут раны и опять пойдет фашистов бить. Не успел. Деревню их, Васильевку, немцы заняли.
Летом 43-го фронт приблизился к деревне. Исстрадавшиеся люди жили надеждой на скорое освобождение. Но гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись. Васильевку то захватывали русские, то отбивали немцы. Отступая, они построили в огромную колонну женщин, стариков, детей и погнали неизвестно куда. Рядом рвались снаряды, полыхали поля с перезревшими хлебами, истошно кричали дети, как подкошенные падали наземь люди, кто от голода, кто от пули.
Измученных, полураздетых, оставшихся в живых загнали на станции Синезерки (до сих пор хранит цепкая память Анны Афанасьевны Журавлевой названия населенных пунктов, имена…) в товарные вагоны, с грохотом закрыли двери и повезли. Куда? Доносился шепот — на запад.
Надо ли говорить, что творилось в душе молоденькой Анны, никогда не выезжавшей из своей деревни. Перепуганная насмерть неизвестностью, она воспряла духом, лишь увидев… мужа. Константин, так же как и Анна, ошалел от радости, что оказались в одном вагоне.
Вместе попали и на хутор к бога- тому эстонцу Котсару Иоганцу, который служил у немцев. От зари до зари Анна с мужем гнули спины, ухаживая за живностью, обрабатывая огромный участок земли. Не кляли судьбу, ведь она не разлучила их. Только сильно тосковали по родине. Здесь все чужое: небо, птицы, чужие люди, чужая речь.
— Война ненадолго, — успокаивал муж, — наши разобьют немцев, и мы вернемся к своим.
Думала ли Анна, что, прежде чем доберется до дома, она пройдет через сущий ад.
На хуторе кроме Иоганца жили еще несколько эстонских семей. Ближайшей соседке Линде Анна приглянулась, и она всякий раз искала возможность встретиться с русской. От нее Анна с Константином узнавали о событиях на фронте. Этими новостями делились с другими подневольными.
Однажды Линда сказала, чтобы супруги остерегались хромого блондина, что наведывается к их хозяевам. Вскоре хромой, он оказался полицаем, приехал за Анной и Константином. Так они оказались в тюрьме. За что? Полная неизвестность. И так около четырех месяцев. За это время всего лишь раз Анна видела мужа. Встречу организовал пожилой эстонец, работник тюрьмы, послав беременную Анну вязать веники. Не ведали тогда супруги, что больше они не увидятся. Никогда.
Потом были допросы, было предъявлено обвинение якобы за распространение сведений о победах Красной Армии и за то, что они, дескать, собирались, когда русские придут, уничтожать эстонцев, листовки собирали. Анна вспомнила, что однажды, работая в поле, они видели, как с самолетов разбрасывали листовки. Из любопытства Константин подобрал несколько штук — но прочесть не смогли, они были на эстонском. Анна все рассказала, ничего не утаив.
В ту же ночь всех заключенных привели на пристань, погрузили на баржу.
Самолеты пролетали чуть ли не над головами, рвались снаряды, а на барже — совершенно беззащитные люди. Многие тогда погибли. Анна уцелела. Ее с такими же горемычными пересадили в товарные вагоны и везли еще двое суток. Всюду искала она глазами Константина, спрашивала, надеясь на чудо, но тщетно.
Первое, что бросилось в глаза, когда открыли вагоны, — колючая проволока, сторожевые вышки, солдаты в черной форме с огромными овчарками, а вдали — высоченные трубы. Женщина-еврейка прошептала белыми дрожащими губами: «Это Освенцим, концлагерь».
В бане прибывшим выдали полосатые халаты, обули в деревянные колодки и… пронумеровали. Процедура болезненная. Но что эта боль в сравнении с болью душевной, которая не утихала ни на минуту.
Пять крематориев беспрерывно дымили на территории лагеря. Уничтожение людей было поставлено на поток. До Освенцима Анна даже слова «крематорий» не слышала, а увидев, потеряла сознание. Ей бы отсидеться в бараке, не ходить, не смотреть. Пошла вместе со всеми. Над трубами, будто над гигантскими свечами, плавно и бесшумно покачивалось зловещее пламя, а всю округу заполнял жуткий, липкий смрад.
У Анны потемнело в глазах, земля поплыла из-под ног, и она почувствовала, как чьи-то руки подхватили ее обессилевшее тело. Через день у нее начались преждевременные роды. На свет появился мальчик. Слабенький, немощный, он еле пищал, требуя есть. А у измученной мамы пропало молоко. Малыш не выжил.
В лагерной больнице родилось еще несколько детей. Но, к ужасу их матерей, новорожденных тотчас забирали. Роженицы сходили с ума, перевязывая груди. Из молодых красивых дамочек они за месяц превращались в седых старух.
Смерти женщины ждали как избавления. А избавление пришло неожиданно… и совсем с другой стороны.









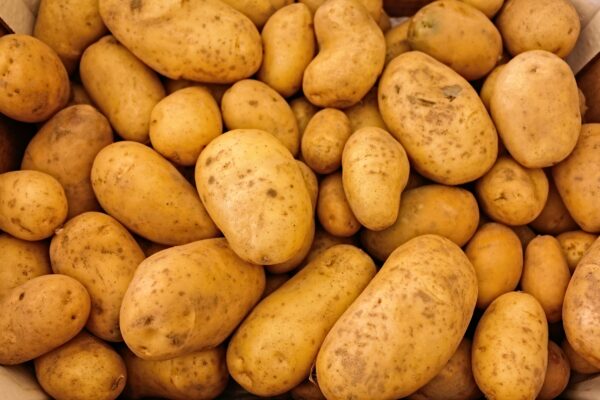
Комментарии
Больше по теме
Не изменяя авиации. Не стал пилотом, зато отвечает за аэропорт в Калуге
Дожать собственника. Калужане не прекращают тонуть в фекалиях
«Страшно до сих пор». Как живёт Злата Липовая из Козельска после похищения