(Окончание. Начало в предыдущем номере.)
Первое, что бросилось в глаза, когда открыли вагоны, — колючая проволока, сторожевые вышки, солдаты в черной форме с огромными овчарками, а вдали — высоченные трубы. Еврейка прошептала белыми дрожащими губами: «Это Освенцим — концлагерь».
Прижав к себе худенькое тельце девочки, она судорожно зарыдала. Остановил ее грубый немецкий окрик: «Шнель, шнель, швайн!» — и удар в спину прикладом автомата. Она едва удержалась на ногах.
В бане прибывшим выдали полосатые халаты, обули в деревянные колодки и … пронумеровали. Процедура болезненная. Но что эта боль в сравнении с болью душевной, которая не утихала ни на минуту. В груди постоянно что-то ноет и ноет. Потом уже, спустя многие годы по окончании войны, врачи скажут, что боль эта неизлечима. Переживания, мол, так отразились на организме. Их и впрямь на десять жизней хватит.

Пять крематориев беспрерывно дымили на территории лагеря. Уничтожение людей было поставлено на поток. До Освенцима Анна даже слова «крематорий» никогда не слышала, а увидев, потеряла сознание. Ей бы отсидеться в бараке, не ходить, не смотреть. Пошла вместе со всеми. Высоченные трубы за глухим забором видны были чуть ли не с порога барака. Над ними, будто над гигантскими свечами, плавно и бесшумно покачивалось зловещее пламя, а всю округу заполнял жуткий удушающий смрад. У Анны потемнело в глазах, земля поплыла из-под ног, и она почувствовала, как чьи-то руки подхватили ее обессилевшее тяжелое тело.
Через день у нее начались преждевременные роды. На свет появился мальчик. Слабенький, немощный, у него не хватало силенок даже на крик, он еле пищал, требуя есть. А у измученной мамы пропало молоко. Малыш не выжил. В лагерной больнице родилось еще несколько детей. Но, к ужасу матерей, новорожденных у них тотчас забирали. Роженицы сходили с ума, перевязывая груди. Из молодых красивых дамочек они за месяц превращались в седых старух. Всюду слышались им крики малюток.
Смерти женщины ждали как избавления. А избавление пришло неожиданно и совсем с другой стороны. Узницы чувствовали: что-то происходит. Немцы словно озверели. Расстреливали больных, взорвали крематорий, сожгли несколько бараков. Остались детский и еще два, в том числе и тот, где находилась Анна. Комендант лагеря бегал по их бараку весь красный, злющий и орал на ломаном русском: «Хотите — забирать дети и уходить. Кто не уходить — Сталин вас накормит».
Несколько женщин ринулись было к воротам — они заперты. С другой стороны у двери стоят два эсэсовца. «Ну все, — пронеслось в голове, — сейчас взорвут барак — и конец мучениям».

Ленинградка Ольга, у нее еще не успели отобрать ребенка, Нина Хомич из Белоруссии, эстонка Валя, родившая замечательную девочку Лилю, которую ей приносили кормить до трех месяцев, а потом малышка бесследно исчезла, вдруг стали истово молиться, причитать. А комендант швырнул на пол связку ключей, взмахом руки подал знак эсэсовцам, и все трое кинулись вон из барака.
Прошло немало времени, прежде чем сошло оцепенение с женщин. Они боялись выйти на улицу, а когда вышли, встретили узников из другого барака. Немцев нигде не было. Ни числа, ни месяца никто не знал, видели только, что была зима. Не понимая, что происходит, вдруг заметили вдалеке вооруженных людей в белых маскировочных халатах. Услышав родную русскую речь, не могли поверить… Метнулись навстречу, и наконец до них дошло: свободны! Какое же было ликование! Все плакали, обнимались, целовали друг друга. От мужчин-узников Анна узнала, что муж ее, оказывается, все это время (почти два года) тоже был в Освенциме, всего в нескольких шагах от нее. Но освобождения Константин не дождался. Его расстреляли незадолго до наступления наших войск.
Дальнейшая судьба Анны Афанасьевны складывалась не гладко. Дорога домой, к родителям (им сообщили о ее гибели), оказалась еще очень неблизкой. Почти четыре месяца после освобождения мытарили свои. Допросы, подозрения, дознание. Вместо паспорта выдали справку. Домой она вернулась в марте 45-го. Долго не могла найти работу. Наконец устроилась в леспромхоз. Надо было жить. Но Анна словно окаменела. Хоть и молодая, и собой недурна, но о замужестве не помышляла: здоровье подорвано, жизнь искалечена. И все же нашелся фронтовик Иван Журавлев, что сумел отомкнуть ее сердце. Поженились. Рожать врачи не велели. А она рискнула. И в 48-м родилась девочка. Через два года — сын, потом еще один.
Журавлевы построили дом, поставили на ноги детей, внуков с правнуками дождались. Иван Васильевич переживал, что не доживет до внуков — с сорок первого года мучился от фронтовых ран. Война догнала его почти на пятидесятом году их совместной жизни. Уже двадцать восемь лет Анна Афанасьевна живет без него.
Ей девяносто два года. Слава Богу, в здравом уме. Все неурядицы, трудности она смиренно сносила, не принимая их всерьез, хотя порой было очень тяжело. Но ей всегда было с чем сравнивать. Раскисать, расслабляться не позволяли память и страшная метка на руке — лагерный номер. Годы, конечно же, взяли свое, и цифры словно размыты, неясны. Анна Афанасьевна чуть растягивает кожу, и отчетливо видно: 87218.
Сколько же выстрадала эта хрупкая мужественная женщина! Вовсе не беззаботным было ее детство, не шибко берегла юность, а уж сколько досталось в молодости. Но не жалость к себе щурит ее глаза и хмурит лицо, а боль и страх за то, что происходит на Украине. Сердце кровью обливается за ветеранов, одолевших чудовищную войну, разруху. И сейчас на старости лет вновь переживают фашизм. Даже хуже: в них стреляют свои, превращают в руины дома и города, убивают детей. Как же так? Потому навалились тяжелые мысли на мою визави, потому они так горьки и печальны и берут на разрыв старые и новые рубцы.








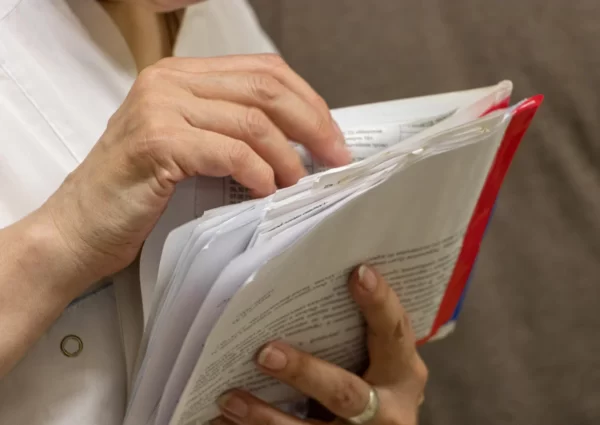

Комментарии
Больше по теме
Не изменяя авиации. Не стал пилотом, зато отвечает за аэропорт в Калуге
Дожать собственника. Калужане не прекращают тонуть в фекалиях
«Страшно до сих пор». Как живёт Злата Липовая из Козельска после похищения